
Придумать рассказ про мальчика.
Ответы на вопрос

Поделюсь рассказом, который однажды придумал для племянника — про мальчика, который учился слышать тишину.
Когда мне было девять, меня звали Лёша, и я жил в маленьком приморском посёлке, где ветер так уверенно свистел в щёлках окон, что можно было подумать: это у нас в доме живёт флейтист и у него всё время плохое настроение. Наш дом стоял на улице, упиравшейся в край земли — за забором начинался обрыв, под ним шумело море, а чуть поодаль торчал белый маяк. Я его боялся. Не самого маяка — неба над ним. Казалось, стоит подняться туда, в плоское, серое, холодное небо, и с тебя слетит тёплая куртка, пальцы разожмутся сами, а шаг — и всё.
Дед работал на маяке. Не сторожем, как говорил папа, а «смотрителем». Говорил, что маяк — это глаз. Его нужно вытирать от соли, кормить электричеством и разговаривать с ним ночами, чтобы он не заскучал. Дед умел разговаривать с вещами: с чайником, с глиняным горшком и даже с моими кроссовками, когда те упрямились и не хотели становиться чистыми. Я, если честно, считал, что он всё придумывает. Но однажды он сказал: «Возьми-ка, Лёша, пустую банку из-под варенья, приложи к уху у маяка и послушай, что он скажет». Я покрутил пальцем у виска — про себя, чтобы не обидеть, — и не взял. Стыдно признаться, но я вообще старался не подходить ближе, чем на десять шагов к дверям маяка: вдруг позовут внутрь, а там лестница, завитая в спираль, и всё — у меня сгибаются колени, темнеет в глазах.
В тот октябрьский вечер ветер шёл с моря какой-то неровный, как будто натыкался на невидимые стены. Небо висело низко, пахло мокрым железом. Дед уже ушёл на смену, а мама попросила меня отнести ему пирожки — «ещё тёплые, предупреди, чтобы не обжёгся». Я завернул пирожки в полотенце и пошёл, как мне казалось, совершенно спокойно. До двери дошёл — ни разу не споткнулся. Пальцы легли на холодную ручку, и тут внутри, сверху, что-то глухо ударило, будто кто-то уронил большую книгу. Я вздрогнул, но толкнул дверь: раз уж пришёл.
Внутри маяк пах солью, керосином и чаем. Лестница поднималась вверх, как закрученная лента. Я сделал два шага — три — пять. На шестом ступени начали слегка дрожать, и я понял, что это не ступени, а мои колени. «Глупости, — сказал себе, — ты просто несёшь пирожки. Если уронишь, дед расстроится». Стало легче. Я шел и считал: семь, восемь, девять… На пятнадцатой ступени услышал, как ветер ударил в стекло там, наверху, и протянулся длинной жалобной нотой. Я остановился и повернулся вниз. И зря: подо мной уже был целый виток лестницы, и мир поехал — он повернулся на бок, и я вместе с ним. Пришлось присесть, прижаться ладонями к железному поручню. Пирожки упирались мне в подбородок, пахли капустой и яблоками. «Поднимись, Лёша, — говорил я себе, — просто поднимись». И поднялся.
Дед встретил меня в стеклянной башенке, где тихо гудела лампа. Он улыбнулся, взял пирожки, подул на пальцы — скорее по привычке — и кивнул на стол: «Садись. Слышишь, как он сегодня? Будто горло простудил». Я слушал и слышал только ветер и своё собственное сердце. «Не слышу», — честно признался я. Дед улыбнулся иначе: не весело, а как учитель, которому попался упорный ученик. Он открыл ящик и достал пустую банку из-под вишнёвого варенья, приложил к стеклу и подал мне: «Попробуй так. Иногда, чтобы услышать, нужно дать тишине комнату». Я приложил банку к уху. На дне банки тихо шуршал мир. Сквозь это шуршание я вдруг уловил что-то, похожее на кашель: лампа, едва заметно, потрескивала. Дед коснулся ладонью корпуса: «Сырость лезет. Придётся на ночь прогреть». Я кивнул, сделав вид, что всё понял.
Всё началось ближе к полуночи. Ветер окреп, волны забелели в темноте, как рёбра. С другого берега, где дальше по линии тянулись камни и низкие балки, замигал очень далёкий огонёк — чужой корабль. Дед посмотрел в трубу, пробормотал что-то и вдруг резко поднялся: «А это нехорошо». Я напрягся. «Что нехорошо?» — «Сигнал пеленгует не там. Туманный рык пойдёт мимо. Кто-то слепой, а мы ему в спину светим». Я не понял половину, но понял, что дед тревожится. Он снял с крючка брезентовую куртку, натянул на меня, как на палку-флажок: «Побудешь тут, а я вниз на генератор. Если он встанет — туши лампу, чтоб стекло не треснуло. Но только если встанет». Он сказал это так быстро, что я не успел испугаться. Дверь вниз хлопнула, в лестнице разнёсся гул его шагов.
Остался один — я и лампа. Лампа гудела, ветер пел в щелях, и казалось, что какими-то очень дальними нитками весь мир привязан к этому стеклянному глазу. Я подошёл к пульту — он был прост, как игрушечный: три тумблера, два кружочка, стрелка и старые, тёплые кнопки. Я вспомнил про банку и приложил её к стеклу. В банке, как в маленьком аквариуме, плыли звуки. Между гудением лампы и песней ветра вдруг вставал третий звук — низкий, глухой, как вздох. Я понял: где-то внизу, в комнате, куда ушёл дед, железо сопротивляется сырости. «Держись», — сказал я непонятно кому.
Вдруг всё дернулось. Свет ещё горел, но гудение стало неровным, как шаг человека с больной ногой. Я вспомнил слова деда про стекло и кнопку, которой «тушить». Внизу будто кто-то ударил по трубе. Я закрыл глаза и… не нажал. Не нажал, потому что в банке — ну правда — я услышал другой, четвёртый звук: не ветер, не лампа, не железо — а тихое, как мышиный шорох, «тук-тук-тук». Три раза, пауза, ещё три. Дед показывал мне однажды азбуку Морзе — я смеялся, что это как считалочка. «SOS», — мелькнуло у меня. Я встал на цыпочки, посмотрел в ночь. Море поднималось и опускалось, вдалеке мига холодных огней, но ниже, совсем рядом с нашим обрывом, бедненький огонёк — крошечный, живой — мигал беспорядочно.
Я развернул трубу, как мог, — руки дрожали, но я поймал тот огонёк. И тогда — сам не знаю, откуда — я нашёл на пульте кнопку, которая посылает короткие импульсы в туманный рог. «Дед говорил — только по расписанию», — шепнул кто-то во мне. «А если расписание — для ясной ночи, а ночь — не ясная?» — ответил кто-то другой. Я глубоко вдохнул и нажал, коротко-коротко, три раза, потом пауза, потом ещё три. Гудок, спрятавшийся где-то в брюхе маяка, откликнулся низким голосом. Я повторил. Там, внизу, огонёк словно встрепенулся и мигнул в ответ. Я продолжал, пока не услышал внизу быстрые, добрые шаги деда.
Он ворвался, мокрый и светящийся глазами. Окинул взглядом пульт, потом меня, потом море. Посмотрел в трубу — и как-то очень тихо сказала его борода: «Ах ты…» Он не ругал. Он подошёл к кнопке и, уже сам, дал мощную, уверенную серию сигналов. Из темноты пришёл ответ — ближе, ровнее. Потом — ещё ближе. Дед метнулся к телефону, что-то сказал коротко. Я стоял, прижав к груди банку, в которой мир теперь шумел не страшно, а ровно, как крупа, насыпаемая в мешок.
Через час, когда шторм начал сдавать, мы с дедом спустились вниз. Я шёл уже без страха — лестница больше не казалась мне спиралью, ведущей в небо; она была просто железной дорогой. Внизу, у входа, нас ждала мама. Она прижимала к груди пустое полотенце и смотрела так, будто забыла, как моргать. Дед сказал ей: «Ваш Лёша сегодня разговаривал с морем». И почему-то это прозвучало не как похвала, а как обычный факт — вроде того, что утром идёт дождь, а вечером в чай кладут две ложки сахара.
На следующий день я снова пришёл на маяк. Принёс банку. Мы с дедом сидели и слушали тишину, которая в каждом месте была своя: у стекла — солёная, у лестницы — металлическая, у двери — сквозняковая. Я больше не боялся высоты. Оказалось, высота — это не то, что над тобой, а то, что внутри: когда ты поднимаешься к себе и остаёшься там стоять, сколько нужно.
Иногда по ночам мне снова слышится «тук-тук-тук» — не от моря и не от лампы. Это сердце. Я прислушиваюсь, улыбаюсь и шепчу: «Слышу». И тишина отвечает тем, кто умеет слушать.
Похожие вопросы









Топ вопросов за вчера в категории Литература





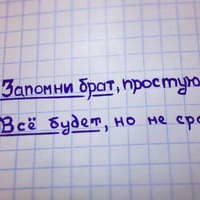

Последние заданные вопросы в категории Литература






-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili











